Всякий человек тяготит к свободе
Все ссыльные были обычно определены в колхозы, а не в совхозы. Почему? Я полагаю потому, что колхоз для сталинской клики был самым действенным средством привязать крестьян к земле. Красная политика пестрела такими лозунгами как власть рабочих или союз рабочих и крестьян. Ну и что с того? А то, что крестьянин не считался рабочим классом и как таковой занимал в политической иерархии значительно более низкую ступень, чем рабочий. „Союз“ с рабочими еще не уравнивал в правах крестьянина с рабочим. Этот заключенный заочно (в ЦК) „брачный“ союз не столько наделял правами, сколько лишал их. Вспомним навязанное колхознику рабочее шефство, от которого он не имел права отказаться, невзирая на то, что предоставленная „помощь“ обходилась колхознику втридорога.
Колхоз – кооперативное, вернее коллективное хозяйство. Сталинская коллективизация сельского хозяйства не ставила своей целью рост производительности крестьянского труда. Немногочисленные колхозы и совхозы 20-х годов (менее 1% сельского населения к 1928 году) в экономическом отношении себя полностью дискредитировали уже к началу 20-х годов. У советских плановых органов и партийной верхушки не было в 1929 году ни малейших иллюзий относительно экономических преимуществ колхозов перед единоличными хозяйствами. Целью принудительной коллективизации была экспроприация всей собственности сельского населения в пользу Политбюро и создание максимального простого способа изъятия продуктов крестьянского труда государством. (Хмельницкий (argumentua.com) Власть облагала колхоз налогами и предписанными нормами „продажи“ хлеба государству - по ценам, установленным в одностороннем порядке. Властей абсолютно не интересовало: в состоянии ли хозяйство выполнить предписанные нормы и получит ли колхоз прибыль от своего труда. Точнее, ЦК интересовало, чтобы ни малейшей прибыли колхознику не оставалось. Создается впечатление, что властей нисколько не заботило выживание колхозников и колхозов. Им попросту не оставляли никакого выбора.
Совхоз – советское хозяйство или большое государственное поместье или сельскохозяйственное предприятие. В совхозе трудились рабочие с такой же трудовой книжкой, как и у всяких рабочих. В принципе, если рабочего совхоза не устраивала ежемесячная зарплата или условия труда и быта, он имел право написать директору совхоза заявление на увольнение и устроиться на работу в другом предприятии. (Это еще не значит, что в действительности все так просто осуществлялось.) Но что важнее: рабочий совхоза не был в ответе за материальное положение хозяйства.
Контроль над тружениками был крайне строгим. Кадровые предписания не позволяли принимать кого-то на работу без записи в трудовой книжке о том, что он уволен с прежнего места работы. У колхозника должна была быть справка от правления колхоза о том, что он больше не является членом колхоза и не в долгу перед хозяйством.
Для удержания членов колхоза достаточно было сделать их постоянными должниками.
Начиная с пленума Центрального Комитета 1952 года эта партийная позиция стала важным принципом правления страны.
На пленуме Сталин объявил впрямую: Микоян, ... видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян.
Кто он, наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно?
Мужик — наш должник.
С крестьянами у нас крепкий союз.
Мы закрепили за колхозами навечно землю.
Они должны отдавать положенный долг государству.
Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна
.Борис Соколов, Сталин перед смертью. АРГУМЕНТ 2015-12-20
А должниками сделать крестьян было несложно. Все члены колхозной „семьи“ несли личную ответственность перед государством за уплату колхозного подушного налога, а также за выполнение норм. До тех пор, пока годовые планы сдачи зерна, мяса и молока государству не были подтверждены плановыми органами, каждый отдельный колхозник, вместе со всем коллективом, был в долгу перед хозяйством, а значит и перед государством. Подтверждение о выполнении планов минувшего года поступало в хозяйство не раньше января-февраля. Но планы нового текущего года вступали в силу уже с начала января. Каждый член колхоза был уже вписан в план начавшегося года. Значит, колхозник вместе с колхозом оказывался в постоянном долгу. Обязательства двух лет регулярно перехлестывались одно с другим в начале года. Колхозник ни в какой момент года не мог оказаться квит перед государством.
Такой коварный втрое закрученный узел давал правлению колхоза возможность отказать колхознику в его просьбе об отчислении из хозяйства. Но если правление кого-то и отчисляло, то тем самым оно добровольно брало на себя часть совместной ответственности перед государством, как в подушном налоге, так и в выработке продукции на долю увольняющегося. Видим, что коллективу было очень невыгодно отпускать одного из трудящихся. Это положение резко отличалось от положения рабочего совхоза или иного государственного предприятия.
В сталинском государстве проблема нехватки рабсилы решалась превращением всего труда в стране в принудительный. Основным источником принудительного труда в СССР после 1929 года стало коллективизированное крестьянство. Во-первых, колхозы позволяли самым простым способом экспроприировать сельхозпродукцию. Во-вторых, — изымать для нужд промышленного строительства и прочих государственных надобностей произвольное количество рабочих рук. Это делалось в виде трудовых мобилизаций, принудительных вербовок, депортаций, „раскулачивания“ и массовых арестов. Ликвидация НЭП с последующим „обобществлением“ городской экономики означала уничтожение частной мелкой промышленности, ремесел, торговли и высвобождение миллионов рабочих рук. Оставшиеся без средств к существованию люди были вынуждены наниматься на государственные предприятия. При этом возможности выбора мест и условий работы были сведены к минимуму. Массовые репрессии сталинского времени нет оснований в целом считать „политическими“.
Политические противники советской власти и внутрипартийные оппозиционеры составляли очень малую долю жертв репрессий сталинского времени. Взрывной рост числа репрессированных разными способами людей (осужденных, ссыльных, спецпоселенцев, трудмобилизованных, депортированных и раскулаченных крестьян, выселяемых из крупных городов „лишенцев“ и т. д.) начинается в 1929 году. Он объясняется резким ростом плановой потребности рабсилы на строительстве объектов первой пятилетки. Большинство из них закладывалось в относительно безлюдных местах вблизи источников сырья и энергии. Рабсилу планировалось доставлять туда в нужных количествах принудительно. (Хмельницкий - argumentua.com)
Такой порядок царил по всей стране, и следить за его осуществлением были уполномочены все государственные инстанции, хоть сколько-нибудь связанные с личными вопросами граждан. Например, паспортный режим требовал при выезде выписываться с прежнего места жительства и немедленно прописываться в новом месте пребывания. Такое требование, странное для остального свободного мира, знакомо и сегодняшним россиянам. В странах западной культуры паспорт является документом для посещения иных стран. Причем - далеко не всех. В странах Шенгенского договора при пресечении границ не требуются никакие документы. Само слово паспорт (от латинских слов passus – движение, и porta – врата) ясно определяет его функцию: право на проход пограничных ворот.
Сегодня мы считаем нормальным, что для поездки в иные страны мы должны располагать паспортом и визой. В пограничных пунктах некоторых стран мы должны давать отпечатки пальцев, предъявлять дигипризнаки, возможно - снимки в профиле и en face, в прическе, оставляющей неприкрытым ухо. Могут требовать представить разные справки о состоянии здоровья, сделанных прививок, приглашений в гости, в офисы или научные учреждения. Следует доказать финансовое обеспечение; подать адреса родственников на родине, в посещаемой стране; подписать разные формуляры, часто в нескольких экземплярах. Само собой понятным считается правомерным, что чужие люди шарят до мелочей в твоих вещах, сколько бы интимными они не были. Приходится проходить рентгеновские врата; дозволять собакам обнюхивать себя и свои вещи; вскрывать для проверки бутылки с жидкостью, чаще просто лишаться их и т. д.
Все это вбито нам в привычку и в понятие нормального, без чего в иную страну не стоит даже направляться. Но всего за сто лет все человечество было в состоянии забыть, что до 1914 года любой человек ехал или шел в любую страну, часто не замечая того, где тянется граница между государствами. Никому не запрещалось носить открыто при себе холодное или огнестрельное оружие. Никаким чиновникам не приходило в голову торчать где-то в воротах, и спрашивать у проходящих какие бы то ни было бумаги. Поэтому и не было бумаг. Имя свое, если спрашивали, знал отвечающий человек и ему верили. Просто иначе было немыслимо.
Теперь мы о праве выезда и въезда говорим как о проявлении свободы личности. Мы гордимся собой и страной, где дозволяют отстаивать эти права человека и недовольствуемся, если за отстаивание этих свобод нас ужимают или наказывают. Мы считаем большой свободой возможность, даже отвагой говорить в открытую о свободе человека. Но стоит для сравнения подумать о том, что потребность человечеству начинать борьбу за охрану природы возникла лишь тогда, когда природу стали безгранично загрязнять и уничтожать. Так и потребность борьбы за свободу личности возникла после порабощения личности.
В Советском Союзе человек был в состоянии крепостничества, и это положение считалось нормальным. Даже передвижение на территории огромной „родины“ было ограничено до предела, не говоря уже о праве выезда за границу. Паспорт же в Союзе являлся свидетельством преимущества, чем могли гордиться лишь избранные. Паспорт доказывал, что великая держава считает данного человека достойным милости быть ее гражданином и как таковому может при исполнении уймы требований дать право переселиться в иную местность.
Поэтому паспорт „гражданина Советского Союза“, вызвавший восхищение и чувство гордости у гражданина Владимира Маяковского, не равносилен паспорту рядового гражданина. При помощи Советского паспорта Маяковский мог ездить по таким заграничным странам, как Англия или Швеция, но паспорта рядовых граждан, как правило, хранились запертыми в сейфах сельсоветов, если они вообще выписывались. Посредством паспорта граждан Союза лишали возможности свободно передвигаться даже по территории СССР, не говоря уже о заграничных поездках, для которых в этих редких случаях выписывался специальный заграничный паспорт, как Маяковскому. Но в целях пропаганды при прочтении данного стихотворения разницы между двумя паспортами не объясняли, вследствие чего восхищение автоматически незаслуженно приписывалось порабощающему внутреннему паспорту, содержимому в роли залога в сейфе чиновника. Простой колхозник даже ничего и не ведал про существование заграничного паспорта. Он обычно и крепостного паспорта в глаза не видел. Чего мог он знать еще про их разницу? Гордость гражданина!
В одном исследовании говорится:
Соответственно статистике к 1939 году ... всего лишь 50 миллионов из 162 миллионов жителей страны были корректно зарегистрированы как владельцы паспортов (Колхозники до 1960 года не входили в счет)
.R. J. B. Bosworth, Natsionalism - moodsa rahvuste maailma religioon. Таллинн 2011, с. 170
Выписка и прописка подразумевали заполнение кучи бланков и сбора подписей и печатей на них. Выписавшись из государственной или производственной, а то и колхозной квартиры, выселяющийся автоматически терял любые виды на данную жилплощадь. В выписных бланках выезжающий должен был указывать уже новое место жительства, если он даже еще не имел возможности подыскать новое место работы, гарантировавшее жилплощадь. Не удостоверившись, что в новом месте его пропишут и что ему удастся до прописки получить обещание о возможной жилплощади (фантастичная надежда!), выселяющийся обрекал себя на неопределенный статус БОМЖа.БОМЖ - человек без определенного места жительства.
Из таких лиц на железнодорожных вокзалах больших городов создавалась неиссякаемая категория „постоянных вокзальных квартирантов“, которых специальная железнодорожная милиция знала в лицо и „боролась“ с бродяжничеством и тунеядством в их лице. Борьба не с причиной, а только с последствием. Раз уж вспомнили Маяковского, то тут само собой напрашиваются слова из его другого стихотворения: Моя милиция меня бережет... Для борьбы с ростом вокзальной БОМЖи, в зависимости от расписания поездов, вокзалы на несколько часов ночи закрывались. Исключительно всех находящихся в общих помещениях вокзалов выгоняли наружу. Разумеется, что вместе со всеми шмотками-повязками. Не считались с погодными условиями, младенчеством, старчеством, инвалидностью или иными проблемами. Исключение составляли народные депутаты и кавалеры высших государственных наград, для которых были специальные комнаты, с соответствующей надписью на дверях.
По истечении двухнедельного срока безпрописного состояния человека начали таскать по милиционным участкам, оштрафовать со сроком до трех дней для приведения в порядок своего паспортного положения. После третьего штрафа не прописавшегося могли наказывать отсиживанием суток, или даже принудительной высылкой в отдаленные области страны, под комендантский надзор. Временное вкушение сладкой гражданской свободы заканчивалось положением ссыльного.
Человеку до крайности осложняли поиск нового места жительства и работы. Это обстоятельство значительно снижало добровольное переселение граждан. На этом ограничения не кончались. При переселении на всех бумагах требовалось указывать социальный статус человека. Обычно полагалось подчеркнуть один из приведенных в анкете статусов: служащий, рабочий или крестьянин. Вместо крестьянина часто напрямую писали колхозник. Но к колхознику везде и всегда относились с подозрением, если не с презрением. К нему всегда предъявляли добавочные требования. На предприятия крупных городов не разрешалось трудоустраивать бывших колхозников – да, даже со справкой об отчислении. Отказывали без объяснения – просто не можем принять, и все тут...
Для провинции считалось нормальным, что колхозникам поголовно не выдавали паспортов. Если тебе вздумалось переселиться, если ты приобрел справку об отчислении из колхоза, то для выезда за пределы района требовалось иметь паспорт. Оформить паспорт закон не препятствовал, но разные внутриведомственные правила делали это почти невозможным. Например, если тебе выдавали паспорт, то в нем должно было указываться твое социальное положение. Кем ты являешься?
Да, ты имеешь справку отчисления из колхоза - вроде бы уже не колхозник. Но ты еще не устроился рабочим на предприятии и не поступил служащим в бюрократическую сферу. Ты – никто! Паспорт выдавать некому! Ты, по сути, иждивенец - причем даже без временной прописки - и за это через 15 суток тебя, как нарушителя паспортного режима, начнет таскать милиция. Куда ж такому еще паспорт выдавать! А по истечении четырех месяцев без работы тебя, как тунеядца, следовало посадить. (В такую ситуацию попал я сам, о чем расскажу в последней части книги.)
В паспортном столе (а начальники паспортных столов, как и начальники по кадрам, исключительно являлись некадровыми сотрудниками КГБ) бланки на выписку без паспорта не подписывались, а паспорт не выдавался без законных данных о гражданстве. Имя-фамилия-отчество еще никого не делало полноценным гражданином власти рабочих. Предположим, что ты все-таки добился выдачи паспорта, но тогда в него обязательно впечатают позорящее клеймо колхозник – на основании справки отчисления из колхоза, как последних данных о трудовом состоянии. Колхозник был самым низшим статусом при получении паспорта. Его повсюду только гнали. И освободиться от данного статуса было крайне трудно. Ты был прикован к земле. Даже освобождающемуся из места задержания зэку безоговорочно выписывался паспорт. Его лишали права поселения в большие, и закрытые города, в приграничные зоны, или прежнее место жительства и т. д., через кодированные серийные буквы выписанного паспорта. Но он его получал. С кодом бывшего заключенного.
„Я другой такой страны не знаю, / где так вольно душат человек“ - пели втихаря, и оглядываясь.
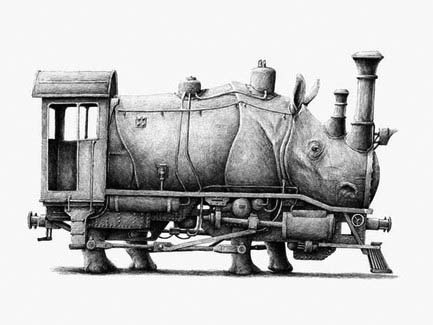
Представим картину, где по одну сторону дороги – на колхозном поле - группа крестьян собирает картошку. Они не рабочие, поэтому не имеют зарплаты и дня получки, но по причине беспрерывной задолженности перед государством (а заодно и перед колхозом и всеми его членами по отдельности) на них постоянным бременем лежит долг. По другую сторону дороги - на совхозном картофельном поле – работает группа рабочих. Они не крестьяне, поэтому имеют скудную, но регулярную зарплату в день получки. Они имеют право написать заявление об увольнении и – хоть это непросто, разумеется – переселиться в иное место.

Молодой человек, желающий поступить в профучилище или университет, тоже должен был получить из колхоза соответствующий документ, не смотря на то, что он никогда не подавал заявления на вступление в коллективное хозяйство. Даже не будучи членом колхоза, он, вероятно, в летнее время уже бывал на колхозных работах, отдав дьяволу палец. Теперь „дьявол“, не желая выпускать молодого человека, старался ухватиться за его руку. В училище его набор документов могли посчитать неполным без справки из колхоза, и не допустить его к экзаменам. Колхоз мог согласиться выдать справку при условии, что ученик поступит в училище по направлению от хозяйства и, как таковой, после выпуска непременно будет направлен обратно в родной колхоз. Так он останется порабощенным.
Но если молодой человек желал приобрести профессию, не связанную с сельским хозяйством, то ему могли начать промывать мозги, склоняя к выбору подходящей для хозяйства профессии. Чем на него подействовать? Для вступления в любое училище требовалось предъявить самолично написанную биографию, характеристику из школы и из хозяйства, если он там работал – независимо от того, являлся ли он его членом. А на летних каникулах он действительно работал в колхозе. Ссыльному требовалось вдобавок иметь еще и справку из спецкомендатуры. Юноше угрожали в колхозе, что если он не согласится „сотрудничать“, то ему напишут такую характеристику, что никакое заведение его не примет. Такой метод срабатывал безотказно. Я испытал это на себе. Но подробней об этом поговорим позднее.
Не то чтобы к таким методам прибегали всегда, но власть оставила их на усмотрение колхозов, а колхозы при желании пользовались ими. Прикрепление молодежи к колхозам поощрялось правительством. Об этом свидетельствует тот факт, что дирекции училищ обычно требовали от поступающих документы, с помощью которых осуществлялось порабощение. Вероятно, они побаивались нарушать соответствующие требования, писанные или неписанные. Тем не менее – исключения были, что только подтверждает наличие закономерности.
Для парней единственно верным и надежным методом вырваться из цепких лап колхоза была служба в армии. Хотя впереди ожидали три-четыре года отупляющего казарменного режима, в пятидесятых годах большинство сибирских парней шло на службу с приподнятым интересом испытать что-то неизведанное. К тому же, пропаганда изображала армейскую службу школой мужества или даже геройства.
А самое главное – военная часть при демобилизации выдавала парню вожделенный паспорт! Вот уж теперь перед молодым человеком была открыта вся страна – поселяйся где угодно, вступай в любое училище: при поступлении демобилизованным отдавали предпочтение. Прописка, работа, квартира - в льготном порядке. Этой возможностью пользовались все более-менее способные парни. Таким путем через армию высасывался наиболее трудоспособный мужской прирост из колхозных хозяйств. У девушек такой возможности вырваться из цепких колхозных лап не было, что усугубляло диспропорцию полов молодого сельского населения.
Но если парень, несмотря на открывшиеся возможности, все-таки возвращался после армии в колхоз, то на него смотрели как на недальновидного человека, проще говоря – как на растяпу. Несомненно, он и был растяпой, но... не стоит торопиться с выводом, что он не умел замечать перспектив! По возвращении даже такого растяпу ожидала карьера. Тут он приобретал положение, которого он никогда не достиг бы в чужом месте, да без образования (к достижению которого он, вероятно, не был способен). У него была почти полная гарантия носить через плечо „авторитет“. Это был планшет - известный офицерский атрибут - маловместительная, но сшитая из очень плотной кожи коричневая сумочка с длинным, узким ремнем. Наличие такого „авторитета“ отличало любого начальника от рядового чернорабочего, как погоны. Поэтому в хозяйстве не было такого начальника, у которого на бедре не болтался бы „авторитет“.
Учитывая влияние этого предмета на рост самоуважения, можно полагать, что особенно тот начальник, которому недавно навесили „авторитет“ после позорного возвращения со службы в отсталый колхоз, не расставался с ним и в постели. Если отслужившего в армии парня не возводили в учетчика, то уж наверняка его назначали бригадиром. Ведь в армии он на себе ощутил, что значит командовать. „Авторитет“ плюс умение дать нагоняй заменяли профучилище, в которое его и не приняли бы, ведь он, вероятно, не окончил даже четырех классов.
Первой обязанностью бригадира было гнать людей на работу. Утром, получив в конторе от нарядчика разнарядку людей по разным работам, он оббегал деревню и, хлопая по „авторитету“ в такт словам, нараспев читал под каждым окном соответствующий наряд. Да, содержание речитатива до мелочей определяло тон и специфику воспроизведения звука. Неизвестно, как они без обучения риторике и постановке голоса в музыкальном или духовном училище, безошибочно осваивали это искусство. Их тембр голоса был грубоватым, но в то же время пронзительным – из-за напряженной диафрагмы. Бабы, наблюдающие со стороны, могли между собой с признанием отметить: „Поет как соловей!“. Значит, у этого вида художественного изложения не отсутствовали свои любители и знатоки, если закрыть глаза на некоторый тон сарказма в выражаемом признании.
Итак, идет бригадир из конторы с разнарядкой: определяет кого-то косить сено, других - складывать сено; одних – копать силосную яму, других - закапывать заполненные ямы; кто-то должен идти стричь овец, кому-то надлежит картошку тяпать.
Да-да, что там говорить про собственную картошку колхозника! Даже колхозную картошку, каждый отдельный картофельный кустик, тоже окучивали вручную, тяпкой - то есть „тяпали“! Я не помню, чтобы в русском словаре было слово, обозначающее процесс окучивания (от слова куча, в отличие от борозды или грядки) при помощи техники. И поныне не знаю такого.
Каждое утро бригадиру приходилось три раза оббегать деревню. У каждого круга была своя цель и, соответственно, характер изложения. На первом круге он служил будильником и осведомителем. Второй круг - повторял прежде озвученный приказ с упреком, не терпящим отговорок. Но бесплатный труд никого не вдохновлял напрягаться. Ясно, что от работы безнаказанно увильнуть было практически невозможно, но искушать судьбу все равно пробовали... иногда. Для таковых требовался третий круг. Одной из тех, кто частенько испытывал судьбу, была живущая напротив нас одинокая дева Маруся, с пышно округлыми телесными формами.
Но зла долго не помнили. Каждое утро события в деревне развивались, в общем, так же, но в то же время по-новому, и переключали тематику сплетен на новый канал. Не станешь же без конца смотреть знакомую серию мыльной оперы! Свежие события естественным образом вытесняли старые.
В иерархии власти ступенькой выше бригадира стоял учетчик. Например, именно он приходил в посевное время измерять площадь засева, а в сенокос - принимать у звеньевого стогованное сено. От длины его рулетки и росчерка карандаша зависело очень многое. Итак, звеньевой шел к стогу придерживать конец рулетки не только с добрым словом. Еще он старался держать в кармане про запас фляжку с самогончиком, чтобы при измерении окружности стога учетчику не сильно бросались в глаза зигзагообразные провисания ленты рулетки вокруг „худенькой талии“ стога, и чтобы норма трудодней на звено была выполнена, а еще лучше – перевыполнена. „Не ходи к воеводе с одним носом, ходи с приносом!“, наставляет народная мудрость.
Так как дармовая водка все основательней громила трезвую трудоспособность и склоняла начальников от верности хозяйству к пристрастию – буржуазному пережитку – учетчики, равно как и председатели, бригадиры и иные имеющие хоть мизерную власть в колхозе, обычно не могли продержаться в своей должности больше года, вскоре уступая свое почетное место следующему передовому сподвижнику. Например, необразованному демобилизованному - очередному растяпе.
С должниками правление колхоза удобно манипулировало при помощи нормировщика.
Возьмем, как пример, пастуха коровьего стада.
Общегосударственная норма труда позволяла зачисление одного трудодня при восьмичасовом выпасе стада, скажем, из 100 голов, при условии выполнения плана надоя молока на корову. Обычно стадо в летнее время паслось часов 10. Кажется, что неплохая возможность подзаработать! В те дни стадо колхоза имени Крупской состояло из 60-70 коров, что при десятичасовой работе дает выработку от силы 0. 8 трудодня.
Так как дойных коров держат для производства молока, а надой зависел от питания, физического состояния и породы коровы, качество пастьбы скота измеряется по надою молока. Писалось, что показательная костромская породистая корова давала в сутки 20 литров молока. Всесоюзная средняя норма составляла около восьми литров. Сибирские коровы в летнее время давали четыре-пять литров. Это полнормы. Этим эффективность работы пастуха уменьшается вдвое: 0. 8 разделить на 2 – остается 0. 4 трудодня за 10 часов работы. А приключится на пастбище, какое несчастье с коровой, или будет телиться, а теленок погибнет – пастух, выплачивай! Так ему кроме долгов ничего и не доставалось.
Пастуху, отработавшему пять месяцев без выходных, по 10 часов в день, начисляли всего два месяца трудодней, а остальные три месяца благоприятного летнего времени он якобы прогулял, если не проспал, за что „заслуженно“ оставался перед хозяйством в долгу. Была ли у него надежда наверстать нехватку за зиму? Мою сестру Валентину неизменно заставляли работать дояркой в зимнее время, что было куда труднее, чем летом. Половина коров на голодном пайке и в морозном хлеву прекратили вообще доиться, а дойные давали молока меньше, чем козы. Помимо скромной порции сена и соломы, доярки должны были в светлое время дня сходить в лес и нарубить на „витаминный прикорм“ еловых веток. За это, правда, начислялось немного трудодней, но они никак не восполняли долга за летний „прогул“.

Такие методы приучали рабочего симулировать труд, но и государство, в свою очередь, симулировало оплату труда. Оставались ли квиты? Дай Бог!
Ослабшие коровы не вставали на ноги. Их приказывали поднимать и подвязывать веревками, перекинутыми через балки. Залежавшиеся коровы бросали слишком мрачную тень на брезжащий рассвет коммунизма. Но веревки для подвешивания неустойчивого контингента с самого начала приукрашивали коммунистический строй, поэтому они сильно не затмевали зари светлого будущего. Шло даже в поучение и устрашение!
Нередко случалось, что морозной ночью копыта стоявшей коровы вмерзали в навоз, и утром дояркам приходилось вырубать их топором. Скованная на всю ночь корова после освобождения падала от изнеможения. Чтобы ее потом не поднимать, ее заблаговременно подвязывали на веревки. Как она себя на них чувствовала, это был вопрос косвенный и не заслуживающий внимания. Срабатывал системный принцип: если мучились люди, так почему скоту должно было быть легче?! Уж коммунизм - так всем!
Посреди дня всех коров, не „свисавших“ с потолка летучими мышами, полагалось выгонять во двор. Да, в Сибири в праве на ежедневную порцию свежего воздуха коровы были приравнены тюремным заключенным, которых тоже на полчаса выводили освежаться. У заключенного не спрашивали, есть ли у него, чем укрыться от вьюги, мороза или дождя; также и выгул коров не зависел от погоды, плотности и водостойкости их взъерошенной и оштукатуренной навозом шерсти. Только недостовало им еще физзарядки, под аккомпонемент революционного марша...
Порция ежедневного свежего воздуха для коровы была настолько общепринятым понятием, что когда эстонцы, приобретшие корову, строили ей хлев без сквозняков и не выводили на свежий воздух, то местные жители не могли надивиться, почему такая не выгуливаемая корова еще дает молоко, причем намного больше их коров, регулярно наслаждающихся свежим воздухом.
В некоторых дворах можно было видеть изрядно освежительное содержание коровы. Привезут хозяева при первом снеге свой стог сена к дому, застогуют его вновь и привязывают свою коровку к жердине, торчащей из верхушки стога. Вот где у нее была полная свобода: под какой из четырех сторон света укрыться от ветра, кушать или нет, дожидаться ведра воды или, вместо мороженого, снег пососать. Раздолье! Даже корова, содержащаяся в таких свободных условиях, не хотела доиться... Поэтому нетрудно понять удивление из-за того, что корова в теплом хлеве и даже лишенная короткой прогулки доится! Несуразица какая-то...
Трудовой день доярки был самым длинным в колхозе. Доярке приходилось первой протаптывать дорогу по улице, занесенной за ночь. Улицы не освещались, окна были темными, ведь в такую рань керосинки в домах не были еще зажжены. Направление на скотный двор брали интуитивно, да по тявканью отдельных определенных бессонных барбосов. Про аккумуляторные фонарики и мечтать не смели. Первая подоспевшая доярка на ощупь искала лопату и расчищала дверь, внутри на ощупь искала керосиновый фонарь „летучую мышь“ и зажигала его.
Если зимой и доили только два раза в сутки, днем все равно надлежало приходить, чтобы подвешивать лежачих, добывать хвою, поить и выгуливать коров, и т. д. С вечерней дойки опять возвращались последними. Полевые колхозники работали только в короткое светлое время дня. Неудивительно, что добровольно в доярки никто не шел. Более „способные“ откупались самогоном или просто отругивались, поэтому в доярки были вынуждены идти самые беспомощные, самые униженные. Для принуждения ссыльных на помощь начальству всегда услужливо прибывал комендант-гебист, угрожающий ссыльному судом, ссылкой еще дальше в глушь за саботаж социалистического труда, или выселением из дома - как с нами поступили дважды. Так самый слабый был вынужден поддаваться.
В четвертый год бригадиром скотного двора была придирчивая Катуйка. Несмотря на безграмотность, которой она любила хвастаться, она была районным депутатом, чем еще больше кичилась, понятное дело. Поэтому она считала коммунистическим долгом проявлять особую бдительность относительно врагов народа, то есть ссыльных. Милья Сисаск, старшая сестра эстонского парня Эйно, тоже работавшая дояркой под началом Катуйки, умела постоять за себя, но Валентина очень часто приходила с фермы просто плачущей.
Валентина окончательно обессилела. Но словно специально ей в помощь из Иркутских лагерей под осень четвертого года в Сибири вернулась освобожденная сестра Ольга. Комендант-гебист сильно обидел ее, отобрав паспорт и приказав идти работать дояркой на ферме. Во главе с Ольгой сёстры воспротивились бесконечному бесправию. В наказание нас выставили на улицу, а сруб разобрали на бревна, из которых позднее соорудили пристройку для колхозной конторы. Но доброжелательная, в тридцатые высланная чувашка Мария Буль, недавно переселившаяся в более сносное жилье, предложила нам свой освободившийся ветхий домик. Но уже следующей весной нас насильно выдворили и оттуда. Но подробней на этом остановимся позднее.
Если уж тема главы – о стремлении к свободе, то было бы уместно рассказать о добровольцах, поселившихся в 1953 году в Сибири, вскоре после смерти Сталина.
Хозяйство в панике начало ремонтировать три колхозных дома, перед этим переселив оттуда прежних жильцов. Законопатили крыши, окна, двери и дымоходы. Ради кого?
Новоселы прибыли из Томска с обозом грузовиков, из которых один выгрузили в Халдееве, а остальные направились дальше. Три семьи с детьми разговаривали на языке, очень напоминающем русский. Этот язык казался намного ближе к русскому, чем наше родное наречие сету к основному эстонскому языку. Они оказались белорусами. Мы не могли понять их веселья и довольства. Поменявшаяся тактика ссылки? Ведь в придачу к лучшим колхозным домам им выделили из скотного двора по корове, поросенку и нескольких кур. Кроме того, они стали ежедневно получать готовый хлеб из колхозной пекарни (ух как гордо звучит частная русская печка бабы Марфы!), и не знаю что еще...
Вскоре мы узнали, что они добровольные переселенцы, а это для нас было тем менее непонятно. По доброй воле, сами в Сибирь???
Но когда мы начали понимать языки друг друга, мы услышали истории, о которых до этого даже не подозревали. Они оказались счастливцами, попавшими под государственную программу социальной помощи семьям, сильно пострадавшим в войне и вследствие этого крайне обедневшим. Понемногу они рассказывали о кошмарных событиях, постигших их родную деревню. Подобного не встречалось видеть даже в военных фильмах.
Как известно, в Белоруссии местами проходили очень ожесточенные танковые бои. Наши переселенцы проживали в колхозной деревне, расположенной на песчаном острове среди болот, характерных для Белоруссии. В деревню вторгалась то одна армия, то другая. После каждой смены линии фронта в деревне зверствовали каратели. Скот – как колхозный, так и частный – попавший в руки военных, был поголовно съеден. Дома были разгромлены, песчаные поля изрыты несметными бомбами, минами и прочими снарядами, а остальная площадь превращена в жидкое месиво танковыми гусеницами. На земле не осталось ни единого зеленого стебелька.
При отступлении немцы местами сжигали все деревни. Деревню Зеленый Гай сожгли со всеми жителями, а в Мосанах людей живьем закапывали в ямы и затаптывали лошадьми. Живые под подковами дергаются, лезут из ям, тянут руки... Ужасы и невообразимый садизм описывают жители, которым посчастливилось остаться в живых. Немцы говорили: „Все здесь партизаны - вши, собаки, дети“...Янис Гринвалдс Военные дневники.
Некоторые семьи сумели заблаговременно скрыться в более дальних окрестных болотах, иногда вместе с коровой. Стоя в воде по колено, они наклоняли кроны ив, болотных березок и черной ольхи, и связывали их верхушки, создавая настилы для детей и оставшегося скудного имущества. На них по очереди и отсыпались. Корова стоя долго не выдерживала. Она ложилась в воду, а ее голову старались опереть на подогнутые деревца. Основным занятием было ломать зеленые ветки вокруг, чтобы ими кормить ее.
После окончательного прохождения фронта поле побоища было усеяно разлагающимися трупами солдат обеих армий.
(Мне вспомнилась подобная картина, увиденная после возвращения нашей семьи в разгромленный родной хутор.) Женщины любого возраста оказывалсь поруганными, чаще со стороны солдат „освободителей“.
Чтобы можно было в это верить, следует для сравнения привести один лишь факт из документальных данных исследования числа и случаев изнасилования военными Красной армии в Германии.
Люси Эш пишет: В Германии того времени аборты были запрещены согласно статье 218 уголовного кодекса. Но Люхтерханд [врач-венеролог] говорит, что после войны был короткий промежуток времени, когда женщинам было разрешено прерывать беременность.
Особая ситуация была связана с массовыми изнасилованиями в 1945 году.
С июня 1945 по 1946 год только в этом районе Берлина было одобрено 995 просьб об аборте
.Люси Эш, Изнасилование Германии: неизвестная история войны. АРГУМЕНТ, 2015-10
Всего несколько коров вернулись в деревню живыми. У тех трех семей, переселившихся в Халдеево, не осталось ни скота, ни дома, ни имущества. Одни дети – голодные и нагие.
Немногие мужчины, после войны, вернувшиеся с фронта и партизанских отрядов, начали восстанавливать быт. Представители власти вскоре занялись восстановлением колхоза. Привезли стройматериалы, из которых в первую очередь возвели колхозный скотный двор, контору, а затем барак для бездомных. Привезли первых коров, но не для жителей, а для колхоза. Заставили возделывать колхозные поля, полностью утратившие и без того жалкий плодородный слоёк почвы. Но некоторые многодетные семьи так обнищали, что власти посчитали разумным предоставить им возможность переселиться в Сибирь за государственный счет и с подъемными средствами. Так рядом с нами оказались переселенцы-добровольцы.
А мы, ссыльные из Эстонии, убедились, что мы не самые обездоленные, что в огромном Союзе есть еще гораздо более пострадавшие люди. Это был урок стоящий...